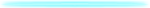ИСТОРИЯ ЗАСТОЛЬЯ
XVIII-XIX веков
(письмо Жюлю Жанену)
Часть 1-я
Мой дорогой Жанен!
Я искал завязку для непринужденного разговора о XIX, XVIII и даже XVII столетии. И вдруг, уподобившись Архимеду, я воскликнул: «Эврика! Я нашел!»
Действительно, я нашел, мой давний друг [Жюль Жанен, которого называли «принцем критики», далеко не всегда был другом А. Дюма. Между ними неоднократно завязывалась публичная «перепалка», а однажды за острую, если не сказать злую, критику его драмы «Калигула» Дюма даже вызвал Жанена на дуэль.], ваш милый портрет вместе с письмом, которое прислал вам господин Файо. Я не могу воспроизвести портрет, однако я могу воспроизвести посвящение, которое, к сожалению, написал не я. В нем говорится о вас так же хорошо, как я хотел бы это сказать сам.
Книга, где находятся эти бесценные документы — один, посвященный вашему внешнему облику, портрет; второй, посвященный вашему нравственному облику, а именно посвящение, — называется «Классики стола».
А вот и письмо:
ГОСПОДИНУ ЖЮЛЮ ЖАНЕНУ
Милостивый государь!
Не удивляйтесь, что мы поместили вате имя на фронтисписе этой книги, которая содержит в себе нечто больше, чем душу лиценциата Жиля Переса. Вы очень любите поэта Горация, угощавшего Мецената такими вкусными обедами, а посему просто не можете не быть другом и соратником стольких очаровательных преподавателей в этой счастливой и плодотворной науке стола и хорошего настроения. Эта наука, которую с полным правом можно назвать «веселой наукой», подчинила Европу Франции, по меньшей мере в области моды, романов и поэзии. Самый уважаемый в этом мире преподаватель — Брийя-Саварен: его предписания немедленно превращаются в неукоснительно соблюдаемые законы. Карем, вероятно, был единственным символом славы своего столетия, который никто не оспаривал. Наконец, господин князь де Талейран, здравые суждения которого записаны в скрижали современной истории, на протяжении всей долгой жизни пользовался популярностью скорее не благодаря остро му уму, восхищавшему всю Европу, а благодаря вполне заслуженной репутации первого, даже если принимать во внимание его величество Людовика XVIII, гастронома своего времени.
Мы хорошо знаем, милостивый государь, что ваши амбиции не простираются столь далеко. Гурманной памяти покойный маркиз де Кюсси говорил, что вы проявляете за столом слишком много остроумия и поэтому не можете понять, хорошо ли вы пообедали. Он утверждал, что у вас форма преобладает над содержанием. Но поскольку он не хотел никого обескураживать, то добавлял: «Кто знает? Может быть, он станет знаменитым, хотя очень неумело держит себя, когда в руке у него столовый нож!» Сам Карем незадолго до смерти утверждал, что он должен был бы суметь научить вас чему-нибудь, если бы познакомился с вами в прекрасные времена своих поистине королевских устремлений. Мудрый и достойный человек! Пусть вы это до конца не осознали, но все-таки догадались об этом. Вы последовали примеру усидчивых людей, которые едва знают язык Гомера, но сами себе читают вслух прекрасные стихи «Илиады» только лишь для того, чтобы порадовать слух. Они восхищаются созвучиями, но домысливают все остальное. Мы ставим вас во главе гастрономов, милостивый государь, если и не за ваше еще проявившееся не в полную меру гурманство, то за вашу волю, усердие, за ваше честное желание сделать, когда у вас появится достаточно свободного времени, значительные успехи в этой великой науке умения хорошо жить, которая, если поразмыслить, представляет собой излюбленную науку всех рафинированных людей вселенной.
Вот почему эта «Энциклопедия» веселых любителей удовольствий выйдет в свет под вашим покровительством. Да пусть будет угодно всемогущему богу Дезожье и Петрония, чтобы сия книга принесла счастливые плоды! Увы! Нам потребовалось приложить невероятные усилия, чтобы вернуть полезным удовольствиям стола их былую популярность, чтобы пробудить аппетит, столь же притуплённый, как и ум, наших современников. Мы должны признать, чего бы это нам ни стоило, что гурманы встречаются сейчас так же редко, как и великие поэты. Лучшие столы были опрокинуты смертью или революциями, которые гораздо хуже смерти. О, позор на нашу голову! Мы присутствовали при розничной распродаже самых знаменитых парижских погребков. Даже те, кто их основал, эти бесценные подвальчики веселья, вдохновения, остроумия и, скажем прямо, братской любви, даже они приказывали впускать в свои обесчещенные погребки пристава-оценщика, этого печального гостя, который пробует вина, не испив их, только для того, чтобы понять, сколько денег можно потребовать с хозяина. Добрые вина, божественные ликеры, предназначенные для друзей, поэтов, прелестниц, для тихих радостей домашнего очага, были выставлены на продажи скупым владельцем, мечтавшим лишь о деньгах! О деньгах, чтобы заменить ими столько улыбок, столько радостных возгласов, столько любезных взглядов, столько почти уже свершившихся надежд, столько чуть влажных влюбленных губ! Вытащенные из полумрака и безмятежного спокойствия, эти дивные бутылки, пока еще покрытые полу прозрачным одеянием, сотканным пауками или феями Бордо, Макона и Кот-Роти, словно спрашивали друг друга: «Куда мы отправляемся?» Ужасное зрелище! Прискорбный упадок! Поздняя империя кулинарного искусства! И вот, наконец, настала пора, при которой верные последователи обязаны вернуть честь подлинным традициям.
Пусть эта книга напомнит Франции об уходящем великом искусстве, об искусстве, вобравшем в себя элегантность и куртуазность, без которых все другие искусства бесполезны и бесплодны: главным образом, искусство гостеприимства, пользующееся с равным успехом самыми превосходными продуктами воздуха, воды, земли: мясо коров, вдоволь нагулявшихся на плодородных пастбищах, и жаворонков, паривших над полями пшеницы; лед и огонь: зажаренный с корочкой фазан и картофель; плоды и цветы; золото, фарфор и самые обворожительные произведения живописи; искусство четырех сезонов года, четырех возрастов человеческой жизни; только страсть, самая счастливая из всех, не оставляет после себя ни огорчений, ни упреков совести. Каждое утро она возрождается еще более блистательной и более веселой. Она нуждается в мире и изобилии. Она прекрасно себя чувствует в мудрых, счастливых, упорядоченных, доброжелательных домах. Любезная страсть, которая может заменить все другие, она воплощает собой радость домашнего очага. Она подчиняется всем потребностям города, всем требованиям деревни.
Путешественникам она служит утешением. Здоровому человеку она дает силу, больному — надежду. Как и все счастливые, невинные и добротные науки, это излюбленная наука королей и поэтов, тридцатилетних красавиц и безобидных политических деятелей. Эта добродетель, отсутствующая у Наполеона и присущая Великому Конде, породила шедевры, искрящиеся редчайшим остроумием, очаровательнейшим весельем, шедевры, наполненные милосердием, здравомыслием, квинтэссенцией, философией, учтивостью. Все эти шедевры, встречающиеся то там то тут, словно куплеты одной и той же песни, мы собрали в одну книгу. И если потребуется к ней эпиграф, то мы возьмем девиз вашего поэта, ставший вашим девизом: «Позволить себе быть счастливым» — «Indulgere genio!» [лат. Отпускаю грехи гению].
Пользуйтесь же как можно дольше этим счастливым искусством, столь достойным блистательного и любезного ума, который мы так любим за доброжелательность, снисходительность и непринужденность. Вне всякого сомнения, милостивый государь, как вы частенько говорите, очень трудно хорошо писать, но уметь хорошо пообедать — в сто раз труднее.
Париж:, 10 октября 1833 года.
Ваш друг,
СЕКРЕТАРЬ ПОКОЙНОГО КАРЕМА
Как видите, любезный друг, эти строки были написаны тридцать четыре или даже тридцать пять лет тому назад. Тогда во времена нашей бурной молодости мы были отчаянно-смелыми, но не были вовсе гурманами. Но почему не были гурманом вы? Мне представляется, что господин де Кюсси правильно догадался. А почему не был гурманом я? Да я и сам не знаю. И тем не менее в ту эпоху, ушедшую навсегда, еще устраивались званые приемы. Если вы помните, мы довольно регулярно ужинали у двух королев театра того времени. После «Генриха III» мы ходили есть суп с миндалем к королеве комедии, мадемуазель Марс, которая жила тогда на улице Тур-де-Дам.
А после «Христины», которая шла в Одеоне, мы отправлялись есть салат с трюфелями, щедро приправленный черным и индийским перцем на Западную улицу к императрице трагедии мадемуазель Жорж.
Я нахожу, что суп с миндалем в достаточной степени напоминает мадемуазель Марс.
Я нахожу, что салат с трюфелями весьма точно характеризует мадемуазель Жорж.
Ах! Любезный друг! Какие это были счастливые времена! Как мы смеялись за этими ужинами!
Когда мадемуазель Жорж начинала раздеваться, а делала она это, как было принято у великих актрис, в нашем присутствии, мы покидали ее ложу и, отперев решетку Люксембургского сада, от которой у нее был ключ, шли к ней, на Западную улицу. Выходили мы через другую решетку сада. Вдалеке, сквозь листву или, вернее, сквозь голые ветви, ибо была зима, мы видели, как мерцают оконные стекла гостиной, где были зажжены все светильники.
Едва мы переступали порог, как за нами врывался влажный, насыщенный запахами воздух улицы.
Мы входили в гостиную, где нас уже ждало огромное блюдо с трюфелями, весившими четыре-пять фунтов. Мы тут же садились за стол. Мадемуазель Жорж, переодевшись, как я уже говорил, в ложе, брала салатницу, ставила ее на сверкающую белизной скатерть и, взяв в свои королевские ручки нож, принималась чистить трюфели с поразительной ловкостью и бесконечной осторожностью.
Сотрапезниками были:
Локруа, этот утонченный и насмешливый ум, который ласкал, даже нападая;
Жантий, издатель уж и не знаю какого журнала, грубый, импульсивный, неожиданный ум; он хвастался тем, что первым заявил, будто бы Расин был распутником;
Арель, так называемый хозяин дома, но на самом деле преданный раб мадемуазель Жорж; быстрый, очаровательный ум, придумывавший выражения, которые затем приписали господину де Талейрану и которые вошли в поговорку;
Вы, мой друг, неутомимый хроникер, писавший на протяжении тридцати или тридцати пяти лет критические статьи в одну из первых литературных газет Франции, наделенный, помимо всего прочего, умением смеяться, причем радостно, в ответ на остроумные шутки других;
И, наконец, я, который, приехав из провинции, учился искусству рассказа и диалога среди этой очаровательной болтовни, не знал усталости и никогда не вмешивался в разговор за весь ужин, продолжавшийся два-три часа.
У мадемуазель Марс все обстояло по-другому. Несмотря на свой возраст — впрочем, она была практически ровесницей мадемуазель Жорж, — мадемуазель Марс сохранила, если и не цветущую молодость, то, по крайней мере, видимость и потребность в молодости.
Она родилась в 1778 году [на самом деле мадемуазель Марс родилась в 1779 году] и никогда не скрывала от друзей своего возраста. На одном из предметов мебели, подаренном королевой матери мадемуазель Марс, разрешившейся от бремени в тот же день, когда Мария-Антуанетта родила дофину, был выбит 1778 год. В мадемуазель Марс уживались две разные женщины: женщина театра — вы о ней помните, не правда ли? — и женщина частной жизни.
Женщина театра с ласковыми глазами, симпатичным голосом, грациозными движениями; и женщина частной жизни с холодным взглядом, хриплым голосом, резкими движениями, в которую она немедленно превращалась, едва почувствовав, как перед ней возникает какая-либо преграда.
Подле себя мадемуазель Марс держала несчастную провинциалку Мартон, которую привезла из Бордо и сделала своей компаньонкой, чтицей и козлом отпущения.
Эту компаньонку звали Жюльеной. Она была весьма умной женщиной, питала ко мне дружеские чувства и сделала меня своим доверенным лицом.
Однажды она рассказала мне о сцене, во время которой имела мужество не обращать внимания на резкие окрики Селимены. После того как я ее с этим поздравил, она сказала:
— Мой дорогой Дюма! Вы, кто все умеет, даже сочинять комедии, придумайте для меня какое-нибудь занятие, за которым я, опустив глаза, могу слушать все оскорбления, бросаемые ею в мой адрес, и скрывать бурлящее во мне негодование.
— Дорогая Жюльена, — ответил я, — займитесь созданием пейзажей.
— Но я не умею рисовать! — возразила несчастная девица.
— Прекрасно, — ответил я. — Для того чтобы создавать пейзажи, не обязательно уметь рисовать. Начертите прямые линии, изображающие стволы деревьев, и намалюйте красками зеленой гаммы пятно, которое будет изображать листву. Послушайте, я, никогда не державший в руках кисти, принесу вам завтра коробочку с красками, холст и цветную литографию с изображением леса и дам вам первый урок. В те дни, когда будет стоять хорошая погода, то есть когда Селимена будет любезной, вы рисуйте стволы деревьев, то есть чертите прямые линии. Но в грозовые дни. в дни, когда Селимена будет ругаться, рисуйте листву, то есть придавайте своей дрожащей от ярости руке лихорадочное движение. Если она заметит и спросит, что вы делаете, отвечайте, что рисуете дубовые листья.
Ей нечего будет возразить. Тихо ругайтесь, и ваша ярость перейдет на холст.
Я сдержал слово и на следующий день принес Жюльене рисовальные принадлежности. Жюльена послушалась моего совета и начала создавать самый прекрасный из всех девственных лесов, которые я когда-либо видел.
Когда я приходил к мадемуазель Марс, то первым делом шел смотреть на холст Жюльены, прислоненный лицевой стороной к стене.
— Ах! Ах! — восклицал я, если стволы деревьев немного подросли. — Похоже, день прошел спокойно, а вы учились чертить прямые линии.
И наоборот, если листва становилась гуще, если ветви, не принадлежавшие ни одному семейству деревьев, устремлялись в небо или ниспадали на землю, я говорил:
— Уф! Моя добрая Жюльена! Похоже, сегодня пронеслась буря? И Жюльена рассказывала мне о своих горестях.
Нашими постоянными сотрапезниками у мадемуазель Марс были Вату и Беке.
Вату служил первым библиотекарем у герцога Орлеанского. Говорили, что он приходился принцу родственником по побочной линии, и поэтому тот обращался с ним весьма вежливо и доброжелательно. Со своей стороны Вату делал все от него зависящее, чтобы в это поверили.
Госпожа Деборд-Вальмор называла Вату мотыльком в ботфортах, и эта эпиграмма очень точно характеризовала его. Больше всего на свете он хотел прослыть литератором. Он сделал весьма посредственную компиляцию и назвал ее «Заговор Селамара», а также написал отвратительный роман под названием «Навязчивая идея». Репутация, которая сложилась о нем в салонах, основывалась, главным образом, на двух очень известных песенках: «Экю Франции» и «Мэр Э».
Вату охотно рассказывал, что однажды, стремясь сократить путь, достопочтенный мэр предложил королю Луи-Филиппу, отдыхавшему в славном городе Э, пойти по узенькой улочке, более людной по вечерам, нежели по утрам.
От подобных визитов остались очень заметные следы. Этот восхитительный человек, весь пунцовый от стыда, говорил дрожащим голосом, оттесняя короля от опасных мест:
— Но я же приказал их убрать.
— Вы не имели на это право, господин мэр, — отвечал Вату, сопровождавший короля. — У них есть документы. Вы ведь помните Беке, мой дорогой Жанен. Беке, который как Антей, наполнявшийся силой, едва дотронувшись до земли, находил истину на дне каждого выпитого бокала с вином. Этого Беке, который любил изощренно издеваться над святынями, отеческими чувствами и божествами.
— Несчастный, — в один прекрасный день сказал ему отец, — вы когда-нибудь перестанете делать долги?
— Я? — невинно спросил Беке, положив руку на сердце.
— Да, вы. Вы должны и богу, и дьяволу.
— Вы только что назвали двух личностей, — возразил Беке, — которым я не должен ничего.
Его отношения с отцом носили характер длительного диспута. Однажды отец ругал сына за грехи, которые, как он утверждал, сведут Беке в могилу.
— Я на тридцать лет старше вас. И что же? Вы умрете раньше меня.
— Действительно, милостивый государь, — ответил плаксивым тоном Беке, — вы всегда найдете, что сказать мне неприятного.
В день смерти отца Беке отправился как всегда обедать в «Кафе де Пари». Но поскольку он все же хотел соблюсти правила приличия, то спросил у гарсона:
— Пьер, бордоские вина приличествуют трауру?
Необходимо отдать справедливость Беке: он умер, как и жил, сжимая в руке бокал.
Нашим самым очаровательным, но, к сожалению, не слишком прилежным сотрапезником был Шарль де Морне. Он воплощал собой осколки древней благородной расы, как и д'Орсе, с которым имел много общего. Он был одновременно красавцем, умницей и послом короля при шведском дворе.
Никто не мог лучше рассказать о вещах, о которых просто нельзя ничего рассказать.
Он приходился потомком знаменитому Дюплесси-Морне, министру Генриха IV. В период Республики он подал в отставку и, хотя и не имел состояния, принял решение больше не служить.
Время от времени приходил обедать Ромьё. Он пытался побороть богемным духом аристократический дух Морне.
Мы, мой дорогой Жанен, изо всех сил поддерживали современную школу, которую мадемуазель Жорж приняла от всего сердца, а мадемуазель Марс — с явной неохотой.
Кроме того, время от времени появлялся представитель старой школы, например, Александр Дюваль, пронзавший нас свинцовыми стрелами, и Дюпати, изрешечивающий нас золочеными стрелами.
Хотя ужины у мадемуазель Марс и не могли служить образцами кулинарного искусства, они были хорошими и вкусными: ведь их окутывал буржуазный флер, чего никак не скажешь об обжигающих яствах мадемуазель Жорж.
Кроме того, иногда я ходил обедать к одному знаменитому гурману, который сверг настоящих королей и настоящих королев и был, пятым по счету, королем Франции у Барраса, в Люксембургском саду.
Мы родились на рубеже двух столетий с разницей, как я полагаю, в два года: я в 1802 году, а вы в 1804 или в 1805 году.
Следовательно, мы могли знать самых знаменитых гастрономов прошлого столетия, гастрономов, слава которых, к сожалению, угасала, но ведь если эта слава действительно заслуженная, она всегда оставляет неизгладимый след.
Как правило, общество равняется на своего вождя. Наполеон не был гурманом. Однако он хотел, чтобы гурманами стали все без исключения чиновники Империи. «Заведите хороший стол, — повторял он, — тратьте больше, чем получаете. Делайте долги, а я оплачу их».
И, действительно, он всегда оплачивал чужие долги.
Стать гурманом Бонапарту помешала преследовавшая его постоянно мысль, что к тридцати пяти или сорока годам он может располнеть.
«Посмотрите, Бурьен, какой я подтянутый и стройный, — говорил он. — И пусть! Но меня не избавят от мысли, что, если я стану знатным едоком, то наберу слишком большой вес. Я предвижу, что мое телосложение изменится, хотя я и буду делать физические упражнения. Но что же вы хотите? Это предчувствие. Это обязательно случится». Бонапарт был далек от того, чтобы расширить гастрономический выбор, всем его победам мы обязаны только одним блюдом: это цыпленок «Маренго». Бонапарт пил вино в незначительных количества. Это были бордоские или бургундские вина, но он отдавал предпочтение последним. После завтрака, равно как и после обеда, он любил выпить чашечку кофе.
[Цыпленок «Маренго» и сейчас популярен, и не только во Франции. Его происхождение приписывают следующему случаю. После битвы при Маренго, где Наполеон разбил австрийскую армию, ему подали на ужин цыпленка, зажаренного с помидорами, а также грибы, яйца, раков, гренки. «Сложите все вместе», — сказал будущий император. Вот так якобы и появился на свет цыпленок «Маренго».]
Он питался беспорядочно, если не сказать наспех и плохо. Но и в еде проявлялась его абсолютная воля, с которой он делал все. Если у него возникало чувство голода, то его требовалось немедленно утолить. Его провиантская служба была организована так, что в любое время и в любом месте ему могли подать птицу, отбивные котлеты и кофе.
Самым любимым развлечением Наполеона, то есть развлечением, которому он чаще всего предавался, было следующее: после продолжительной и утомительной диктовки он вскакивал на лошадь, отпускал поводья и позволял ей уноситься вдаль.
Он завтракал в своей спальне в десять часов и почти всегда приглашал разделить трапезу тех, кто в тот момент находился подле него.
Бурьен, секретарь Наполеона, проведший с ним четыре или даже пять лет, никогда не видел, чтобы тот притрагивался к более чем двум блюдам.
Однажды император спросил, почему ему никогда не подают свиные крепинет.
Дюнан, а именно так звали дворецкого императора, пришел в замешательство, но все же ответил:
— Сир, то, что неудобоваримо, не является гастрономическим.
Один из присутствующих при этой сцене офицеров добавил:
— Ваше величество не смогли бы сразу же приняться за работу, съев крепинет.
— Ба! Ба! Не говорите глупостей, я буду работать, несмотря ни на что.
— Сир, — сказал тогда Дюнан, — завтра ваше величество будет ими завтракать.
На следующее утро первый дворецкий Тюильри подал требуемое блюдо: но только крепинет были начинены мясом куропатки, что представляет существенное различие.
Император с наслаждением их съел.
— Ваше блюдо великолепно, — сказал он. — Примите мои поздравления. Через месяц, то есть во времена приближающегося разрыва с двором Пруссии, Дюнан вписал крепинет в меню и подал их на завтрак.
В тот день Мюрат и Бессьер должны были завтракать во дворце. Однако неотложные дела удерживали их далеко от Парижа.
Завтрак состоял из шести тарелок, на которых лежали отбивные телячьи котлеты, рыба, птица, дичь, антреме, овощи и яйца, сваренные всмятку.
Император по своему обыкновению за несколько секунд проглотил несколько ложек супа, быстро отставил пустую тарелку и тут заметил свое любимое блюдо. С перекошенным лицом он встал, оттолкнул стол и опрокинул его со всеми стоящими на нем блюдами на персидский ковер. Затем он стремительно удалился из своего кабинета, размахивая руками и издавая громкие крики, хлопая одной за другой дверьми.
Господин Дюнан упал, словно пораженный громом. Он лежал на полу, неподвижный и разбитый, как прекрасный фарфоровый столовый сервиз. Никто не мог понять, что за ураган пронесся по дворцу. Дрожавшие стольники, разрезавшие мясо, испуганные выездные лакеи разбежались кто куда. Растерявшийся дворецкий бросился к обер-гофмейстеру, чтобы попросить совета и воззвать к его милости.
Безукоризненно одетый Дюрок казался равнодушным и гордым. Однако в глубине души он не был ни тем, ни другим. Он внимательно выслушал рассказ Дюнана, а затем улыбнулся и сказал:
— Вы плохо знаете императора. Послушайте меня. Идите и снова приготовьте обед, в том числе и крепинет. Вы совершенно не виноваты в этой вспышке гнева. Причиной тому — дела. Когда император закончит их, он потребует снова подать обед.
Несчастный дворецкий не заставил просить себя дважды. Он быстро побежал готовить этот второй обед. Дюнан донес его до дверей и передал Рустану. Не видя своего усердного слугу, Наполеон мягко и проникновенно спросил, что с тем случилось и почему тот его не обслуживает.
Немедленно позвали Дюнана.
Он появился, по-прежнему бледный, неся в дрожащих руках великолепную поджаренную курицу.
Император милостиво улыбнулся, съел крылышко курицы и немного крепинет и воздал должное обеду. Затем, сделав знак Дюнану подойти ближе, Наполеон потрепал его за щеку и сказал взволнованным голосом:
— Господин Дюнан, вы, будучи моим дворецким, более счастливы, нежели я, будучи королем этой страны.
Император закончил обед в глубоком молчании, с печалью на лице.
Когда Наполеон вел какую-либо кампанию, он по утрам вскакивал на лошадь и не спешивался с нее в течение всего дня. И тогда в одну сумку ему клали хлеб и вино, а в другую — поджаренную курицу.
Как правило, он делил еду с одним из офицеров, чьи запасы были более скудными.
Влияние Барраса, его первого покровителя, который при любых обстоятельствах ел долго и спокойно, никак не отразилось на Наполеоне.
Я дважды обедал у Барраса. Это было давно, и я, к тому же, не уделял особого внимания меню. И поэтому я не могу даже приблизительно вспомнить, из каких блюд состоял обед. В памяти осталось только одно: позади каждого сидящего за столом сотрапезника стоял лакей, следивший за тем, чтобы гость никогда не ждал.
На одном из таких обедов я увидел госпожу принцессу де Шиме, урожденную Терезию Кабарю, а на другом — интриганку-роялистку по имени Фош-Борель, которая принимала весьма активное участие в возвращении на трон Бурбонов.
Баррас, этот старый гурман, был вынужден есть только одно блюдо. На терке для него натирали целую тарелку хлеба, затем на нее клали куски чуть подрумянившейся бараньей ноги, а затем все это обильно поливали соком от жарки.
Вот таким был обед Барраса.
Но самым знаменитым столом того времени считался стол господина де Талейрана.
Буше, или Буш-Сеш (в переводе с французского «сухой рот»), который прислуживал дому Конде и прославился умением готовить сочную и питательную пищу, был призван создать кухню князя де Талейрана. Именно он устраивал в министерстве иностранных дел грандиозные обеды, ставшие классикой и примером для подражания. Князь де Талейран полностью доверял Буше. Он предоставил ему полную свободу действий в за тратах и считал правильными все его начинания. Буше умер, состоя на службе у князя. А начинал он служить в доме принцессы де Ламбаль. На протяжении длительного периода только Буше отбирал поваров для работы в иностранных домах.
Карем посвятил ему свою лучшую книгу — «Королевский кондитер».
Ходило много разговоров о столе господина де Талейрана. Однако далеко не во всех историях сообщались точные сведения.
Господин де Талейран был одним из первых, кто полагал, что полезная и продуманная кухня должна укреплять здоровье и препятствовать возникновению тяжелых болезней. Действительно, отменное здоровье князя на протяжении последних сорока лет его жизни служило убедительным аргументом в пользу подобного суждения.
Вся прославленная, политическая, ученая, артистическая Европа, знаменитые военачальники, высокопоставленные министры, крупные дипломаты, великие поэты — все они сидели за его столом и единодушно признавали, что именно там находится обитель хлебосольного гостеприимства. У князя обычно собирались господин де Фонтан, господин Жубер, господин Деренод, граф д'Отрив и господин де Монтрон, весьма просвещенный человек, которого XVIII столетие оставило нам в наследство достаточно молодым, чтобы его смог по достоинству оценить век XIX.
Революция убила крупных сеньоров, пышные столы, изысканные манеры. Господин де Талейран возродил все это. Именно благодаря ему Франция вновь завоевала репутацию страны роскоши и гостеприимства.
Когда господину де Талейрану исполнилось двадцать четыре года, он каждое утро стал проводить один час с поваром и обсуждать все блюда своего обеда, поскольку принимал пищу только один раз в день. По утрам же, перед тем как приняться за работу, он выпивал две, иногда три, чашки настоя ромашки.
Каждый год князь отправлялся в Бурбон-л'Аршамбо на воды, которые благотворно сказывались на его здоровье. Оттуда он ехал в великолепный замок Валенсе, стол которого был открыт для всех выдающихся людей Европы. В Париже князь обедал в восемь часов, в деревне — в пять. Если стояла хорошая погода, то после обеда он вместе с гостями прогуливался.
Возвратившись с прогулки, все садились за карточный столик: наступала очередь молчаливого виста. Закончив играть, господин де Талейран удалялся в свой рабочий кабинет, где любил немного вздремнуть. Льстецы говорили: «Князь размышляет!»
Те же, кто не видел необходимости льстить, просто говорили: «Господин спит».
Я искал завязку для непринужденного разговора о XIX, XVIII и даже XVII столетии. И вдруг, уподобившись Архимеду, я воскликнул: «Эврика! Я нашел!»
Действительно, я нашел, мой давний друг [Жюль Жанен, которого называли «принцем критики», далеко не всегда был другом А. Дюма. Между ними неоднократно завязывалась публичная «перепалка», а однажды за острую, если не сказать злую, критику его драмы «Калигула» Дюма даже вызвал Жанена на дуэль.], ваш милый портрет вместе с письмом, которое прислал вам господин Файо. Я не могу воспроизвести портрет, однако я могу воспроизвести посвящение, которое, к сожалению, написал не я. В нем говорится о вас так же хорошо, как я хотел бы это сказать сам.
Книга, где находятся эти бесценные документы — один, посвященный вашему внешнему облику, портрет; второй, посвященный вашему нравственному облику, а именно посвящение, — называется «Классики стола».
А вот и письмо:
ГОСПОДИНУ ЖЮЛЮ ЖАНЕНУ
Милостивый государь!
Не удивляйтесь, что мы поместили вате имя на фронтисписе этой книги, которая содержит в себе нечто больше, чем душу лиценциата Жиля Переса. Вы очень любите поэта Горация, угощавшего Мецената такими вкусными обедами, а посему просто не можете не быть другом и соратником стольких очаровательных преподавателей в этой счастливой и плодотворной науке стола и хорошего настроения. Эта наука, которую с полным правом можно назвать «веселой наукой», подчинила Европу Франции, по меньшей мере в области моды, романов и поэзии. Самый уважаемый в этом мире преподаватель — Брийя-Саварен: его предписания немедленно превращаются в неукоснительно соблюдаемые законы. Карем, вероятно, был единственным символом славы своего столетия, который никто не оспаривал. Наконец, господин князь де Талейран, здравые суждения которого записаны в скрижали современной истории, на протяжении всей долгой жизни пользовался популярностью скорее не благодаря остро му уму, восхищавшему всю Европу, а благодаря вполне заслуженной репутации первого, даже если принимать во внимание его величество Людовика XVIII, гастронома своего времени.
Мы хорошо знаем, милостивый государь, что ваши амбиции не простираются столь далеко. Гурманной памяти покойный маркиз де Кюсси говорил, что вы проявляете за столом слишком много остроумия и поэтому не можете понять, хорошо ли вы пообедали. Он утверждал, что у вас форма преобладает над содержанием. Но поскольку он не хотел никого обескураживать, то добавлял: «Кто знает? Может быть, он станет знаменитым, хотя очень неумело держит себя, когда в руке у него столовый нож!» Сам Карем незадолго до смерти утверждал, что он должен был бы суметь научить вас чему-нибудь, если бы познакомился с вами в прекрасные времена своих поистине королевских устремлений. Мудрый и достойный человек! Пусть вы это до конца не осознали, но все-таки догадались об этом. Вы последовали примеру усидчивых людей, которые едва знают язык Гомера, но сами себе читают вслух прекрасные стихи «Илиады» только лишь для того, чтобы порадовать слух. Они восхищаются созвучиями, но домысливают все остальное. Мы ставим вас во главе гастрономов, милостивый государь, если и не за ваше еще проявившееся не в полную меру гурманство, то за вашу волю, усердие, за ваше честное желание сделать, когда у вас появится достаточно свободного времени, значительные успехи в этой великой науке умения хорошо жить, которая, если поразмыслить, представляет собой излюбленную науку всех рафинированных людей вселенной.
Вот почему эта «Энциклопедия» веселых любителей удовольствий выйдет в свет под вашим покровительством. Да пусть будет угодно всемогущему богу Дезожье и Петрония, чтобы сия книга принесла счастливые плоды! Увы! Нам потребовалось приложить невероятные усилия, чтобы вернуть полезным удовольствиям стола их былую популярность, чтобы пробудить аппетит, столь же притуплённый, как и ум, наших современников. Мы должны признать, чего бы это нам ни стоило, что гурманы встречаются сейчас так же редко, как и великие поэты. Лучшие столы были опрокинуты смертью или революциями, которые гораздо хуже смерти. О, позор на нашу голову! Мы присутствовали при розничной распродаже самых знаменитых парижских погребков. Даже те, кто их основал, эти бесценные подвальчики веселья, вдохновения, остроумия и, скажем прямо, братской любви, даже они приказывали впускать в свои обесчещенные погребки пристава-оценщика, этого печального гостя, который пробует вина, не испив их, только для того, чтобы понять, сколько денег можно потребовать с хозяина. Добрые вина, божественные ликеры, предназначенные для друзей, поэтов, прелестниц, для тихих радостей домашнего очага, были выставлены на продажи скупым владельцем, мечтавшим лишь о деньгах! О деньгах, чтобы заменить ими столько улыбок, столько радостных возгласов, столько любезных взглядов, столько почти уже свершившихся надежд, столько чуть влажных влюбленных губ! Вытащенные из полумрака и безмятежного спокойствия, эти дивные бутылки, пока еще покрытые полу прозрачным одеянием, сотканным пауками или феями Бордо, Макона и Кот-Роти, словно спрашивали друг друга: «Куда мы отправляемся?» Ужасное зрелище! Прискорбный упадок! Поздняя империя кулинарного искусства! И вот, наконец, настала пора, при которой верные последователи обязаны вернуть честь подлинным традициям.
Пусть эта книга напомнит Франции об уходящем великом искусстве, об искусстве, вобравшем в себя элегантность и куртуазность, без которых все другие искусства бесполезны и бесплодны: главным образом, искусство гостеприимства, пользующееся с равным успехом самыми превосходными продуктами воздуха, воды, земли: мясо коров, вдоволь нагулявшихся на плодородных пастбищах, и жаворонков, паривших над полями пшеницы; лед и огонь: зажаренный с корочкой фазан и картофель; плоды и цветы; золото, фарфор и самые обворожительные произведения живописи; искусство четырех сезонов года, четырех возрастов человеческой жизни; только страсть, самая счастливая из всех, не оставляет после себя ни огорчений, ни упреков совести. Каждое утро она возрождается еще более блистательной и более веселой. Она нуждается в мире и изобилии. Она прекрасно себя чувствует в мудрых, счастливых, упорядоченных, доброжелательных домах. Любезная страсть, которая может заменить все другие, она воплощает собой радость домашнего очага. Она подчиняется всем потребностям города, всем требованиям деревни.
Путешественникам она служит утешением. Здоровому человеку она дает силу, больному — надежду. Как и все счастливые, невинные и добротные науки, это излюбленная наука королей и поэтов, тридцатилетних красавиц и безобидных политических деятелей. Эта добродетель, отсутствующая у Наполеона и присущая Великому Конде, породила шедевры, искрящиеся редчайшим остроумием, очаровательнейшим весельем, шедевры, наполненные милосердием, здравомыслием, квинтэссенцией, философией, учтивостью. Все эти шедевры, встречающиеся то там то тут, словно куплеты одной и той же песни, мы собрали в одну книгу. И если потребуется к ней эпиграф, то мы возьмем девиз вашего поэта, ставший вашим девизом: «Позволить себе быть счастливым» — «Indulgere genio!» [лат. Отпускаю грехи гению].
Пользуйтесь же как можно дольше этим счастливым искусством, столь достойным блистательного и любезного ума, который мы так любим за доброжелательность, снисходительность и непринужденность. Вне всякого сомнения, милостивый государь, как вы частенько говорите, очень трудно хорошо писать, но уметь хорошо пообедать — в сто раз труднее.
Париж:, 10 октября 1833 года.
Ваш друг,
СЕКРЕТАРЬ ПОКОЙНОГО КАРЕМА
Как видите, любезный друг, эти строки были написаны тридцать четыре или даже тридцать пять лет тому назад. Тогда во времена нашей бурной молодости мы были отчаянно-смелыми, но не были вовсе гурманами. Но почему не были гурманом вы? Мне представляется, что господин де Кюсси правильно догадался. А почему не был гурманом я? Да я и сам не знаю. И тем не менее в ту эпоху, ушедшую навсегда, еще устраивались званые приемы. Если вы помните, мы довольно регулярно ужинали у двух королев театра того времени. После «Генриха III» мы ходили есть суп с миндалем к королеве комедии, мадемуазель Марс, которая жила тогда на улице Тур-де-Дам.
А после «Христины», которая шла в Одеоне, мы отправлялись есть салат с трюфелями, щедро приправленный черным и индийским перцем на Западную улицу к императрице трагедии мадемуазель Жорж.
Я нахожу, что суп с миндалем в достаточной степени напоминает мадемуазель Марс.
Я нахожу, что салат с трюфелями весьма точно характеризует мадемуазель Жорж.
Ах! Любезный друг! Какие это были счастливые времена! Как мы смеялись за этими ужинами!
Когда мадемуазель Жорж начинала раздеваться, а делала она это, как было принято у великих актрис, в нашем присутствии, мы покидали ее ложу и, отперев решетку Люксембургского сада, от которой у нее был ключ, шли к ней, на Западную улицу. Выходили мы через другую решетку сада. Вдалеке, сквозь листву или, вернее, сквозь голые ветви, ибо была зима, мы видели, как мерцают оконные стекла гостиной, где были зажжены все светильники.
Едва мы переступали порог, как за нами врывался влажный, насыщенный запахами воздух улицы.
Мы входили в гостиную, где нас уже ждало огромное блюдо с трюфелями, весившими четыре-пять фунтов. Мы тут же садились за стол. Мадемуазель Жорж, переодевшись, как я уже говорил, в ложе, брала салатницу, ставила ее на сверкающую белизной скатерть и, взяв в свои королевские ручки нож, принималась чистить трюфели с поразительной ловкостью и бесконечной осторожностью.
Сотрапезниками были:
Локруа, этот утонченный и насмешливый ум, который ласкал, даже нападая;
Жантий, издатель уж и не знаю какого журнала, грубый, импульсивный, неожиданный ум; он хвастался тем, что первым заявил, будто бы Расин был распутником;
Арель, так называемый хозяин дома, но на самом деле преданный раб мадемуазель Жорж; быстрый, очаровательный ум, придумывавший выражения, которые затем приписали господину де Талейрану и которые вошли в поговорку;
Вы, мой друг, неутомимый хроникер, писавший на протяжении тридцати или тридцати пяти лет критические статьи в одну из первых литературных газет Франции, наделенный, помимо всего прочего, умением смеяться, причем радостно, в ответ на остроумные шутки других;
И, наконец, я, который, приехав из провинции, учился искусству рассказа и диалога среди этой очаровательной болтовни, не знал усталости и никогда не вмешивался в разговор за весь ужин, продолжавшийся два-три часа.
У мадемуазель Марс все обстояло по-другому. Несмотря на свой возраст — впрочем, она была практически ровесницей мадемуазель Жорж, — мадемуазель Марс сохранила, если и не цветущую молодость, то, по крайней мере, видимость и потребность в молодости.
Она родилась в 1778 году [на самом деле мадемуазель Марс родилась в 1779 году] и никогда не скрывала от друзей своего возраста. На одном из предметов мебели, подаренном королевой матери мадемуазель Марс, разрешившейся от бремени в тот же день, когда Мария-Антуанетта родила дофину, был выбит 1778 год. В мадемуазель Марс уживались две разные женщины: женщина театра — вы о ней помните, не правда ли? — и женщина частной жизни.
Женщина театра с ласковыми глазами, симпатичным голосом, грациозными движениями; и женщина частной жизни с холодным взглядом, хриплым голосом, резкими движениями, в которую она немедленно превращалась, едва почувствовав, как перед ней возникает какая-либо преграда.
Подле себя мадемуазель Марс держала несчастную провинциалку Мартон, которую привезла из Бордо и сделала своей компаньонкой, чтицей и козлом отпущения.
Эту компаньонку звали Жюльеной. Она была весьма умной женщиной, питала ко мне дружеские чувства и сделала меня своим доверенным лицом.
Однажды она рассказала мне о сцене, во время которой имела мужество не обращать внимания на резкие окрики Селимены. После того как я ее с этим поздравил, она сказала:
— Мой дорогой Дюма! Вы, кто все умеет, даже сочинять комедии, придумайте для меня какое-нибудь занятие, за которым я, опустив глаза, могу слушать все оскорбления, бросаемые ею в мой адрес, и скрывать бурлящее во мне негодование.
— Дорогая Жюльена, — ответил я, — займитесь созданием пейзажей.
— Но я не умею рисовать! — возразила несчастная девица.
— Прекрасно, — ответил я. — Для того чтобы создавать пейзажи, не обязательно уметь рисовать. Начертите прямые линии, изображающие стволы деревьев, и намалюйте красками зеленой гаммы пятно, которое будет изображать листву. Послушайте, я, никогда не державший в руках кисти, принесу вам завтра коробочку с красками, холст и цветную литографию с изображением леса и дам вам первый урок. В те дни, когда будет стоять хорошая погода, то есть когда Селимена будет любезной, вы рисуйте стволы деревьев, то есть чертите прямые линии. Но в грозовые дни. в дни, когда Селимена будет ругаться, рисуйте листву, то есть придавайте своей дрожащей от ярости руке лихорадочное движение. Если она заметит и спросит, что вы делаете, отвечайте, что рисуете дубовые листья.
Ей нечего будет возразить. Тихо ругайтесь, и ваша ярость перейдет на холст.
Я сдержал слово и на следующий день принес Жюльене рисовальные принадлежности. Жюльена послушалась моего совета и начала создавать самый прекрасный из всех девственных лесов, которые я когда-либо видел.
Когда я приходил к мадемуазель Марс, то первым делом шел смотреть на холст Жюльены, прислоненный лицевой стороной к стене.
— Ах! Ах! — восклицал я, если стволы деревьев немного подросли. — Похоже, день прошел спокойно, а вы учились чертить прямые линии.
И наоборот, если листва становилась гуще, если ветви, не принадлежавшие ни одному семейству деревьев, устремлялись в небо или ниспадали на землю, я говорил:
— Уф! Моя добрая Жюльена! Похоже, сегодня пронеслась буря? И Жюльена рассказывала мне о своих горестях.
Нашими постоянными сотрапезниками у мадемуазель Марс были Вату и Беке.
Вату служил первым библиотекарем у герцога Орлеанского. Говорили, что он приходился принцу родственником по побочной линии, и поэтому тот обращался с ним весьма вежливо и доброжелательно. Со своей стороны Вату делал все от него зависящее, чтобы в это поверили.
Госпожа Деборд-Вальмор называла Вату мотыльком в ботфортах, и эта эпиграмма очень точно характеризовала его. Больше всего на свете он хотел прослыть литератором. Он сделал весьма посредственную компиляцию и назвал ее «Заговор Селамара», а также написал отвратительный роман под названием «Навязчивая идея». Репутация, которая сложилась о нем в салонах, основывалась, главным образом, на двух очень известных песенках: «Экю Франции» и «Мэр Э».
Вату охотно рассказывал, что однажды, стремясь сократить путь, достопочтенный мэр предложил королю Луи-Филиппу, отдыхавшему в славном городе Э, пойти по узенькой улочке, более людной по вечерам, нежели по утрам.
От подобных визитов остались очень заметные следы. Этот восхитительный человек, весь пунцовый от стыда, говорил дрожащим голосом, оттесняя короля от опасных мест:
— Но я же приказал их убрать.
— Вы не имели на это право, господин мэр, — отвечал Вату, сопровождавший короля. — У них есть документы. Вы ведь помните Беке, мой дорогой Жанен. Беке, который как Антей, наполнявшийся силой, едва дотронувшись до земли, находил истину на дне каждого выпитого бокала с вином. Этого Беке, который любил изощренно издеваться над святынями, отеческими чувствами и божествами.
— Несчастный, — в один прекрасный день сказал ему отец, — вы когда-нибудь перестанете делать долги?
— Я? — невинно спросил Беке, положив руку на сердце.
— Да, вы. Вы должны и богу, и дьяволу.
— Вы только что назвали двух личностей, — возразил Беке, — которым я не должен ничего.
Его отношения с отцом носили характер длительного диспута. Однажды отец ругал сына за грехи, которые, как он утверждал, сведут Беке в могилу.
— Я на тридцать лет старше вас. И что же? Вы умрете раньше меня.
— Действительно, милостивый государь, — ответил плаксивым тоном Беке, — вы всегда найдете, что сказать мне неприятного.
В день смерти отца Беке отправился как всегда обедать в «Кафе де Пари». Но поскольку он все же хотел соблюсти правила приличия, то спросил у гарсона:
— Пьер, бордоские вина приличествуют трауру?
Необходимо отдать справедливость Беке: он умер, как и жил, сжимая в руке бокал.
Нашим самым очаровательным, но, к сожалению, не слишком прилежным сотрапезником был Шарль де Морне. Он воплощал собой осколки древней благородной расы, как и д'Орсе, с которым имел много общего. Он был одновременно красавцем, умницей и послом короля при шведском дворе.
Никто не мог лучше рассказать о вещах, о которых просто нельзя ничего рассказать.
Он приходился потомком знаменитому Дюплесси-Морне, министру Генриха IV. В период Республики он подал в отставку и, хотя и не имел состояния, принял решение больше не служить.
Время от времени приходил обедать Ромьё. Он пытался побороть богемным духом аристократический дух Морне.
Мы, мой дорогой Жанен, изо всех сил поддерживали современную школу, которую мадемуазель Жорж приняла от всего сердца, а мадемуазель Марс — с явной неохотой.
Кроме того, время от времени появлялся представитель старой школы, например, Александр Дюваль, пронзавший нас свинцовыми стрелами, и Дюпати, изрешечивающий нас золочеными стрелами.
Хотя ужины у мадемуазель Марс и не могли служить образцами кулинарного искусства, они были хорошими и вкусными: ведь их окутывал буржуазный флер, чего никак не скажешь об обжигающих яствах мадемуазель Жорж.
Кроме того, иногда я ходил обедать к одному знаменитому гурману, который сверг настоящих королей и настоящих королев и был, пятым по счету, королем Франции у Барраса, в Люксембургском саду.
Мы родились на рубеже двух столетий с разницей, как я полагаю, в два года: я в 1802 году, а вы в 1804 или в 1805 году.
Следовательно, мы могли знать самых знаменитых гастрономов прошлого столетия, гастрономов, слава которых, к сожалению, угасала, но ведь если эта слава действительно заслуженная, она всегда оставляет неизгладимый след.
Как правило, общество равняется на своего вождя. Наполеон не был гурманом. Однако он хотел, чтобы гурманами стали все без исключения чиновники Империи. «Заведите хороший стол, — повторял он, — тратьте больше, чем получаете. Делайте долги, а я оплачу их».
И, действительно, он всегда оплачивал чужие долги.
Стать гурманом Бонапарту помешала преследовавшая его постоянно мысль, что к тридцати пяти или сорока годам он может располнеть.
«Посмотрите, Бурьен, какой я подтянутый и стройный, — говорил он. — И пусть! Но меня не избавят от мысли, что, если я стану знатным едоком, то наберу слишком большой вес. Я предвижу, что мое телосложение изменится, хотя я и буду делать физические упражнения. Но что же вы хотите? Это предчувствие. Это обязательно случится». Бонапарт был далек от того, чтобы расширить гастрономический выбор, всем его победам мы обязаны только одним блюдом: это цыпленок «Маренго». Бонапарт пил вино в незначительных количества. Это были бордоские или бургундские вина, но он отдавал предпочтение последним. После завтрака, равно как и после обеда, он любил выпить чашечку кофе.
[Цыпленок «Маренго» и сейчас популярен, и не только во Франции. Его происхождение приписывают следующему случаю. После битвы при Маренго, где Наполеон разбил австрийскую армию, ему подали на ужин цыпленка, зажаренного с помидорами, а также грибы, яйца, раков, гренки. «Сложите все вместе», — сказал будущий император. Вот так якобы и появился на свет цыпленок «Маренго».]
Он питался беспорядочно, если не сказать наспех и плохо. Но и в еде проявлялась его абсолютная воля, с которой он делал все. Если у него возникало чувство голода, то его требовалось немедленно утолить. Его провиантская служба была организована так, что в любое время и в любом месте ему могли подать птицу, отбивные котлеты и кофе.
Самым любимым развлечением Наполеона, то есть развлечением, которому он чаще всего предавался, было следующее: после продолжительной и утомительной диктовки он вскакивал на лошадь, отпускал поводья и позволял ей уноситься вдаль.
Он завтракал в своей спальне в десять часов и почти всегда приглашал разделить трапезу тех, кто в тот момент находился подле него.
Бурьен, секретарь Наполеона, проведший с ним четыре или даже пять лет, никогда не видел, чтобы тот притрагивался к более чем двум блюдам.
Однажды император спросил, почему ему никогда не подают свиные крепинет.
Дюнан, а именно так звали дворецкого императора, пришел в замешательство, но все же ответил:
— Сир, то, что неудобоваримо, не является гастрономическим.
Один из присутствующих при этой сцене офицеров добавил:
— Ваше величество не смогли бы сразу же приняться за работу, съев крепинет.
— Ба! Ба! Не говорите глупостей, я буду работать, несмотря ни на что.
— Сир, — сказал тогда Дюнан, — завтра ваше величество будет ими завтракать.
На следующее утро первый дворецкий Тюильри подал требуемое блюдо: но только крепинет были начинены мясом куропатки, что представляет существенное различие.
Император с наслаждением их съел.
— Ваше блюдо великолепно, — сказал он. — Примите мои поздравления. Через месяц, то есть во времена приближающегося разрыва с двором Пруссии, Дюнан вписал крепинет в меню и подал их на завтрак.
В тот день Мюрат и Бессьер должны были завтракать во дворце. Однако неотложные дела удерживали их далеко от Парижа.
Завтрак состоял из шести тарелок, на которых лежали отбивные телячьи котлеты, рыба, птица, дичь, антреме, овощи и яйца, сваренные всмятку.
Император по своему обыкновению за несколько секунд проглотил несколько ложек супа, быстро отставил пустую тарелку и тут заметил свое любимое блюдо. С перекошенным лицом он встал, оттолкнул стол и опрокинул его со всеми стоящими на нем блюдами на персидский ковер. Затем он стремительно удалился из своего кабинета, размахивая руками и издавая громкие крики, хлопая одной за другой дверьми.
Господин Дюнан упал, словно пораженный громом. Он лежал на полу, неподвижный и разбитый, как прекрасный фарфоровый столовый сервиз. Никто не мог понять, что за ураган пронесся по дворцу. Дрожавшие стольники, разрезавшие мясо, испуганные выездные лакеи разбежались кто куда. Растерявшийся дворецкий бросился к обер-гофмейстеру, чтобы попросить совета и воззвать к его милости.
Безукоризненно одетый Дюрок казался равнодушным и гордым. Однако в глубине души он не был ни тем, ни другим. Он внимательно выслушал рассказ Дюнана, а затем улыбнулся и сказал:
— Вы плохо знаете императора. Послушайте меня. Идите и снова приготовьте обед, в том числе и крепинет. Вы совершенно не виноваты в этой вспышке гнева. Причиной тому — дела. Когда император закончит их, он потребует снова подать обед.
Несчастный дворецкий не заставил просить себя дважды. Он быстро побежал готовить этот второй обед. Дюнан донес его до дверей и передал Рустану. Не видя своего усердного слугу, Наполеон мягко и проникновенно спросил, что с тем случилось и почему тот его не обслуживает.
Немедленно позвали Дюнана.
Он появился, по-прежнему бледный, неся в дрожащих руках великолепную поджаренную курицу.
Император милостиво улыбнулся, съел крылышко курицы и немного крепинет и воздал должное обеду. Затем, сделав знак Дюнану подойти ближе, Наполеон потрепал его за щеку и сказал взволнованным голосом:
— Господин Дюнан, вы, будучи моим дворецким, более счастливы, нежели я, будучи королем этой страны.
Император закончил обед в глубоком молчании, с печалью на лице.
Когда Наполеон вел какую-либо кампанию, он по утрам вскакивал на лошадь и не спешивался с нее в течение всего дня. И тогда в одну сумку ему клали хлеб и вино, а в другую — поджаренную курицу.
Как правило, он делил еду с одним из офицеров, чьи запасы были более скудными.
Влияние Барраса, его первого покровителя, который при любых обстоятельствах ел долго и спокойно, никак не отразилось на Наполеоне.
Я дважды обедал у Барраса. Это было давно, и я, к тому же, не уделял особого внимания меню. И поэтому я не могу даже приблизительно вспомнить, из каких блюд состоял обед. В памяти осталось только одно: позади каждого сидящего за столом сотрапезника стоял лакей, следивший за тем, чтобы гость никогда не ждал.
На одном из таких обедов я увидел госпожу принцессу де Шиме, урожденную Терезию Кабарю, а на другом — интриганку-роялистку по имени Фош-Борель, которая принимала весьма активное участие в возвращении на трон Бурбонов.
Баррас, этот старый гурман, был вынужден есть только одно блюдо. На терке для него натирали целую тарелку хлеба, затем на нее клали куски чуть подрумянившейся бараньей ноги, а затем все это обильно поливали соком от жарки.
Вот таким был обед Барраса.
Но самым знаменитым столом того времени считался стол господина де Талейрана.
Буше, или Буш-Сеш (в переводе с французского «сухой рот»), который прислуживал дому Конде и прославился умением готовить сочную и питательную пищу, был призван создать кухню князя де Талейрана. Именно он устраивал в министерстве иностранных дел грандиозные обеды, ставшие классикой и примером для подражания. Князь де Талейран полностью доверял Буше. Он предоставил ему полную свободу действий в за тратах и считал правильными все его начинания. Буше умер, состоя на службе у князя. А начинал он служить в доме принцессы де Ламбаль. На протяжении длительного периода только Буше отбирал поваров для работы в иностранных домах.
Карем посвятил ему свою лучшую книгу — «Королевский кондитер».
Ходило много разговоров о столе господина де Талейрана. Однако далеко не во всех историях сообщались точные сведения.
Господин де Талейран был одним из первых, кто полагал, что полезная и продуманная кухня должна укреплять здоровье и препятствовать возникновению тяжелых болезней. Действительно, отменное здоровье князя на протяжении последних сорока лет его жизни служило убедительным аргументом в пользу подобного суждения.
Вся прославленная, политическая, ученая, артистическая Европа, знаменитые военачальники, высокопоставленные министры, крупные дипломаты, великие поэты — все они сидели за его столом и единодушно признавали, что именно там находится обитель хлебосольного гостеприимства. У князя обычно собирались господин де Фонтан, господин Жубер, господин Деренод, граф д'Отрив и господин де Монтрон, весьма просвещенный человек, которого XVIII столетие оставило нам в наследство достаточно молодым, чтобы его смог по достоинству оценить век XIX.
Революция убила крупных сеньоров, пышные столы, изысканные манеры. Господин де Талейран возродил все это. Именно благодаря ему Франция вновь завоевала репутацию страны роскоши и гостеприимства.
Когда господину де Талейрану исполнилось двадцать четыре года, он каждое утро стал проводить один час с поваром и обсуждать все блюда своего обеда, поскольку принимал пищу только один раз в день. По утрам же, перед тем как приняться за работу, он выпивал две, иногда три, чашки настоя ромашки.
Каждый год князь отправлялся в Бурбон-л'Аршамбо на воды, которые благотворно сказывались на его здоровье. Оттуда он ехал в великолепный замок Валенсе, стол которого был открыт для всех выдающихся людей Европы. В Париже князь обедал в восемь часов, в деревне — в пять. Если стояла хорошая погода, то после обеда он вместе с гостями прогуливался.
Возвратившись с прогулки, все садились за карточный столик: наступала очередь молчаливого виста. Закончив играть, господин де Талейран удалялся в свой рабочий кабинет, где любил немного вздремнуть. Льстецы говорили: «Князь размышляет!»
Те же, кто не видел необходимости льстить, просто говорили: «Господин спит».